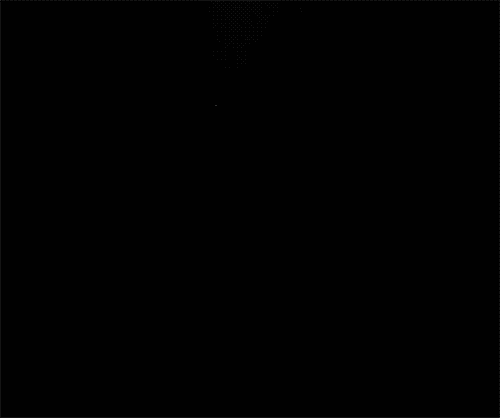Дом (Home)
I.
Когда парень вернулся, его чемоданы и футляр скрипки были в ярких наклейках и нашлёпках на странных языках, непонятных местному народу. То были метки таможен на дальних границах, отелей в больших городах и трансатлантических лайнеров с долгой дороги в Хопкинсвилль. Теперь чемоданы из настоящей кожи и футляр смотрелись очень весело, как цирковые. Они вызывали удивление попутчиков хозяином багажа, темнокожим молодым человеком. И когда тот вышел на маленькой станции в штате Миссури, вокруг него собралась толпа глазеющих зевак.
Рой Вильямс вернулся из заграничья домой чтобы посетить знакомых, свою мать, сестру и братьев, которые пока обитали в старом родном городе. Рой был в отъезде семь или восемь лет, он странствовал по белу свету. Он вернулся очень хорошо одетым, но ужасно исхудавшим. Ему было нехорошо.
Это болезнь заставила Роя вернуться, она. Он чувствовал, что умирает, и хотел свидеться с матерью. Вот уже два или три года им постепенно овладевало предчувствие близкой смерти. Ему казалось, что это началось в Вене, в этом весёлом, но гибнущем городе Средней Европы, где столько людей голодало, а всё же у некоторых водились деньги на шампанское и кавиар, и на женщин в ночных клубах, где с орвестром играл Рой.
Но блёсткий занавес Роевого джаза был разлинован смертью. Ему было дурно видеть шатких от голода людей на улицах Вены, когда другие давились вином и яствами. И он печалился, когда, вернувшись с концерта, гнал от своих дверей тащившихся за ним белых молодок. Те предлагали ему себя за малость денег на какую-нибудь еду.
В Вене Рой снимал комнату, поскольку ему надо было музицировать для поддержания формы. Он учился у одного из лучших скрипачей. И так трудно было ему прогонять прекрасных и голодных женщин, которые стремились проникнуть в его комнату, переспать с ним, денежно работающим мужчиной, которые мог швырнуть им несколько банкнот на пропитание их до смерти истощавших родителей.
«Народ в Европе живёт как в пекле, — думал Рой. — Я никогда не видел таких голодных, даже среди негров на родине».
Но когда его оркестр приехал в Берлин, там оказалось ещё хуже. За внушительным фасадом этой великой столицы скрывались двери не для пришлых, за коими голод и страдания были просто невообразимы. А полиция избивала народ, который протестовал, крал или попрошайничал. И всё же в кабаре, где играл Рой, толпы пока тратили приличные суммы. Они смеялись и танцевали каждую ночь, и даже не поминали детей, спавших на улицах, или мужчин, городивших себе хибары из упаковочных ящиков, или женщин, на ходу промышлявших мелкой торговлей.
Это в Берлине печаль навалилась, облапила Роя. И там он начал кашлять. Однажды ночью в Праге у него случилось кровоизлияние. В Париже подруга поухаживала за ним — и Рою полегчало. Тем не менее предчувствие смерти не оставило его. Кашель не проходил, и печаль тоже. И вот он вернулся домой чтобы свидеться с матерью.
Он сошел на берег в Нью-Йорке в день, когда Гувер вышиб ветеранов из Вашингтона. Несколько дней Рой провёл в Гарлеме. Большинство его тамошних старых друзей — музыканты и актёры — голодали и не имели работы. Видя хорошо одетого Роя, они просили у него денег. А уличные женщины щептали ему ночами: «Пойдём, детка! Я хочу тебя, дорогой мой!»
«Везде гниль, — думал Рой. — Хочу домой».
Последнюю ночь в Гарлеме он провёл без сна. Рой думал о своей матери. Утром он послал ей телеграмму о своём возвращении.
II.
«Крутой ниггер,»— говорили белые бездельники, видя его, стройного и элегантного, стоящего с багажом в ярких стикерах на платфороме станции на сентябрьском солнце. Рой садился в пульмановский вагон — нечто неслыханное для негра в этих местах.
«Чёрт побери,» — говорили бездельники.
Внезапно раздался гнусавый голос: «Псом буду, если это не Рой Вильямс!»
Роу узнал старого знакомого музыканта, Чарли Мамфорда, жившего за аллеей напротив, высокого красношеего белога парня в плаще. Рой снял перчатку и протянул руку. Белый парень только встряхнул её. Рой забыл, что здесь не Европа, где он запросто носил перчатки и обменивался рукопожатиями с белыми. Проклятье!
«Где ты был, парень?», — спросил его белый друг.
«Париж».
«И чево ты вирнулся?» — «полуюжный» вопрос донёся с угла багажной тележки.
«Захотелось свидеться с метерью».
Поскольку носильщиков не было, Рой сам взял чемоданы и понёс их к старому, ржавому «форду», казавшимся такси. Он был слаб и раздражён. Дым и пыль в пути усугубили кашель. Глаза белых мужчин у станции были недобрыми. Рой услышал, как один пробурчал «ниггер». Его это как ошпарило. Впервые за полдюжины лет он ощутил цвет своей кожи. Он был дома.
III.
Пой песню Дикси*, лопающиеся на солнце хлопковые коробочки, тень китайской вишни***, падающие с заморозками персиммоны****. Собак, следящих опоссумов октябрьскими ночами. О, сладкие картофелины, горячие, с масляными жёлтыми сердечками.
«Сын, я довольна что ты приехал дома. Что Ма тебе сготовит? Я знаю, ты голодный по какой реальной еде. Пшеничный хлеб и зелень, и свинина-солонина. Боже!.. У тебя мощные прекрасные одёжки, сладкий, но ты с виду такой худой… Детка, я надеюсь, ты побудешь дома немного… Эти цветные девки, они спятят по тебе. Они уже дерутся за тебя… Славный, когда ты играешь на той скрипке, я так расслабленная, это так классно… Играй своей скрипкой, мальчик! Бог дал тебе талант! Да, действительно! Дивно что все белые в этом Хопкинсвилле уже слышали о тебе. Женщина, где твоя сестра работает, сказала ей что где-то читала об оркестре, где ты играл в Париже. Она сказала сестре, чтобы привети тебя к ней домой, чтобы ты немного поиграл для неё. Я сказала сестре нет, ты же не ходишь везде по домам со скрипкой. Ей сказали передать, что белая женщина из приходского совета устраивает с тобой концерт в церкви, где каждый может прийти и заплатить двадцать пять центов во славу Бога, и послушать твою игру. Разве это не правильно, сын? Ты поиграешь для Бога в этом Хопкинсвилле. Ты играл дьяволу каждую ночь по всей Европе… Исус милостив! Давай я уйду, дай ма вымыться! И пока ты попрактикуешь, я сготовлю тыквенный пирог на ужин. Я вижу у тебя уже текут слюги… Сладкий, ма так рада что ты вернулся дома… Играй твою скрипку, сын!
VI. Венское каприччо. Соната ля мажор.
Где ещё такой малый зал способен вместить Брамса и Бетховена, Баха и Цезаря Франка? Конечно, дом сестры Роя Сары Вильямс в Хопкинсвилле не для них. Когда Рой играл, такой больной и на ногах, звуки рвались из окон — и цветной народ, и белый народ слышали их. Классик Брамс, звучащий в ниггерском доме у нижнего теченния Миссури. О, мой Бог! Играй твою скрипку, Рой! Сегодня вечером твой концерт.
Церковники и благотворители продали массу билетов белыми людям, на которых они работали. Домашний Ронцерт Роя для Церкви Шайло имел финансовый успех. Места в передних рядах по пятьдесят центов были заполнены белыми людьми. Остальные стулья стоили червертак и были заняты неграми. Забыв церковное соперничество, пришли методисты и баптисты. B там было много цветных девушек с напудренными личиками-конфетками, много сладких чёрных и мулаток, и жёлтых, чьи красные рты стремились к Рою. Там было много суеты и перфюмов, и сдавленного хихикания, и шёпотов, когда наполнилась тёмная и скучная церковь. Новые туфли шастали так и этак в боковых проходах. Народ аплодировал, и было уже за час ночи, но концерт изумил бы цветных в любое время суток. Церковь была перполнена.
V.
Привет, мистер Брамс на скрипке из Вены в цветной церкви Хопкинсвилля, Миссури. Тонкие тёмнокожие руки больного молодого человека испевают тебя в присутствии белых бедняков и даже беднейших негров. Доброго вечера, мистер Брамс, долги пути из твоего дома, длинно твоё путешествие во исполнение моей мечты, тягуче звучание твоё по белу свету. И у меня была мечта, мистер Брамс, великая мечта, которая долго не осуществлялась — и наконец. Мечта о большой сцене в просторном зале наподобие Карнеги Холла или Salle Gaveau. И ты, мистер Брамс, поющий в простор тьмы, поющит так мощно и чисто, что тысячи людей снизу ввверх смотрят на меня так, как они милуются Роландом Хейсом (Roland Hayes), вещающем о Распятии. Исусе, я мечтал о чём-то подобном до того, как захворал и вернулся домой.
И вот здесь я даю свой первый концерт в Америке для своей матери и паствы Церкви Шайло, и полтинники с четвертаками, которые они собрали за Брамса и меня, суть во славу Божью. Это не Карнеги Холл. Я просто и только вернулся домой… Но они смотрят на меня. Белые с передних рядов и чёрные сзади. Подобно одной паре глаз, смотрящих на меня.
Вот, друзья мои… Я бы сказал, ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (Тут и белые, которые не друзья мне.)… Это «Медитация» из «Таис» Массене. Это сердце, разбитое наверняка неосуществимой мечтой… Это музыка, и я. сидящий на крыльце мира, нуждающийся в вас… О, тело жизни и любви со смуглыми руками и тёмными членами, и белые груди, и золотой лик с губами, подобными скрипке, склонённой для пения… Крепись, Рой! Жарко в переполненной народом церкви, и ты адски болен… Вот она, мечта грезёра, странствующего пустыней от Хопкинсвилля до Вены, влюблённого в уличную прохожую по имени Музыка… Слушай, сука, я хочу чтобы ты была прекрасной как ночная луна на опушке холмов Миссури. Я сдалаю тебя прекрасной… «МЕДИТАЦИЯ» из «ТАИС»… Ты помнишь, ма (даже слыша мою игру, ты теперь села в «аминевом» углу, там, где ты бываешь каждое воскресное утро, когда приходишь поговорить с Богом), помнишь те пластинки фирмы «Крайслер» и фонограф с большой трубой из моего детства? Они нравивились одному мне, и ты не одёргивала меня, когда я вертел их снова и снова… Как же ты смогла купить мне скрипку? У тебя часто не находилось денег за мой еженедельный урок музыки у старого мистера Миллера. Да упокоит Бог его безоплатную душу, как говорят католики… Почему ты плакала, ма, когда я уехал с народным минстрел-шоу, играл простецкие песни по всему Югу, а не гимны? Что ты оплакивала, ма, когда я сказал тебе, что устоился на работу в джаз-банде ночного клуба на Стейт-стрит в Чикаго?.. Зачем ты молилась всю ночь, когда я сказал тебе, что у нас заключён контракт на долгие гастроли в берлинском кабаре? Я пытался втолковать тебе, что в Берлине лучшие учителя музыки и когда я вернусь, то буду играть как крайслеровские пластинки на старой «виктороле»?.. И разве я не слал тебе деньги?.. Брызги как песок в глазах… О, мечта на крыльце мира! Таис! Таис!.. Ты конечно не похожа на неё, невзрачная белая женщина в дешёвом плаще и красной шляпе, ты, взирающая на меня с первого ряда. Ты ничуть не похожа на Таис. Чего ты хочешь себе от музыки? Чего ты ждёшь от меня? Это Хопкинсвилль, Миссури… Смотри на этих мулаток в окружении негров, как они тянутся ко мне и к музыке. Большинство из них впервые увидело мужчину в вечернем костюме, в белом и чёрном. Большинство из них впервые услыхало «Медитацию» из «Таис». Все они впервые увидели человека своей расы, вернувшегося из-за границы, играющего на скрипке. Видишь, как горды мной и музыкой поверх голов белого люда в первых рядах, поверх головы белой женщины в дешёвом плаще и в красной шляпе. женщины, которая в общем знает, о чём эта музыка… Кто ты, дама?
Когда концерт кончился, даже некоторые белые пожали руку Рою и сказали, что всё было чудесно. Цветной люд сказал: «Парень, ты точно дока в музыке!» Рой только встряхивал их руки, и глаза его горели, и он сдерживал кашель. Боль простреливала ему плечи. Но он всё тянул свою джазбандовую улыбку, котоая так нравилась мечущим золото леди в европейских ночных клубах. И он каждому подавал свою лихорадившую руку. Белая женщина в красной шляпе ждала с краю толпы.
Когда люди поразбрелись от пюпитра, она подошла к Рою и пожала ему руку. Она заговорила о симфоническом концерте в Сент-Луисе и о том, что она — преподаватель музики, игры на рояле и скрипке, но у неё не было учеников, подобных Рою, который играет прекраснее всех в Хопкинсвилле. Рой смотрел ей в узкое, веснушчатое лицо и был доволен родственной душе. Он был рад тому, что ей нравится музыка.
«Это мисс Риз, — сказала Рою мать, когда они ушли. — Старая дева, музыкантша при белом институте».
«Йес, мэм, — откликнулся тот, — она знает толк в музыке».
VI.
В следующий раз Рой увидел мисс Риз в белой высшей школе вскоре после начала семестра. Однажды утром к нему пришла записка с просьбой сыграть на экзамене для старшекурсников. Мисс Риз обязалась аккомпанировать Рою. Дело выглядело так, что она была обязана повышать музыкальный уровень в Хопкинсвилле: она было рассказала своим студентам о Бахе и Бетховене и будет рада, если Рой посетит институт и сыграет музыку этих великих мастеров в присутствии молодых людей. Она выслала ему красивую записку на чистой белой бумаге.
Рой пошёл. Его мать думала о большой чести, оказанной белой музыкальной школой её сыну. «Эта мисс Риз — таки прекрасная женщина. — сказала ему сестра. — Она пригласила тебя в институт. Сколько я живу в Хопкинсвилле, негры там только в уборщиках, а я живу в этом городе давно. Пойди и сыграй им во славу Божью, братец!»
Рой играл. Но то был один из дней, когда горло его горело и пересохло, а глаза полыхали. Он кашлял всё утро, а в институте его пробрала испарина. Он играл плохо.
Но мисс Риз была более чем добра к нему. Она аккомпанировала Рою на пианино. И когда он кончил, она повернулась к классному собранию белых деток, развалившихся в креслах, и сказала: «Это искусство, моя дорогая молодёжь, это настоящее искусство!»
Студенты разошлись по домам и тем вечером рассказали своим родителям, как принаряженный ниггер пришёл в школу и сыглал массу пьес, не понравившихся никому кроме мисс Риз. Они ещё долго рассказывали, как она ухмылялясь до ушей и вослицала :«Чудесно!» И она даже низко поклонилась ниггеру, когда тот вышел вон!
Рой пришёл домой и слёг. Он то вставал, то лежал все эти дни, и всё время тощал и слабел. Бывало он сутками не практиковал. Часто он отказывался от пищи, приготовленной ему матерью, или от гостинцев сестры, приносимых ею с работы. Иногда он воспалялся затемно, одевался, надевал и жёлтые перчатки, и с тростью прогуливался улицами городка с десяти-одиннадцати вечера до часу ночи, после чего ложился в постель. Полночь в Хопкинсвилле была безлюдна. Но Рой годами работал по ночам. Теперь ему было трудно заснуть до утра.
Но однажды он вышел в свою последнюю ночную прогулку. Луна встала, и Рою не надо было зажигать масляную лампу чтобы одеься. Свет заливал его комнатку, и белое покрывало на кровати, скользил по чемоданам, яркими стикерами клеился на стены. Он скользил по шеренге пузырьков с лекарствами на столике. Но Рой зажёг свет, чтобы лучше рассмотреть себя в кривоватом зеркале гардероба. Прежде смуглое его лицо было пепельным. Шёки впали. Дрожа, он надел костюм, штиблеты и жёлтые перчатки и шляпу из мягкого фетра. Он взял и трость, да не по моде, а от слабости. И вышел в сияние осенней луны.
На цыпочках пересекая прихожую, он слышал сопение спящей на кушетке матери. (Та уступила ему свою комнату.) Дверь квартирки оставалась незапертой. Братья, подумал Рой, ушли гулять со своими подругами. Его сестра спала.
Улицы были очень тихи. Желтел подлунный туман, деревья отряхнули половину своей пожелтевшей листвы. Под сухим листопадом Рой шагал в центр города, дыша осенним, осиянным луной воздухом и вертя тростью. Ночь и улицы всегда улучшали его самочувствие. Он вспоминал бульвары Парижа и Унтер-дер-Линден. Он вспоминал тамошних голубей и напевая «Wien, du Stadt Meiner Traeume» («Вена, ты город моих грёз») Его память возвращалась к огнам и музыке европейских столиц. Всё было как сон, невозможный сон о Европе, думал он. У ма вообще не было денег. Её дети напрасно пытались отучиться в средней школе. В Хопкинсвилле не имелось учебного института для негров. У него был единственный шанс отправиться на Юг с минстрел-шоу, чтобы затем выучиться. Затем — один шанс уехать в Берлин с джаз-бандом. А после — его скрипка и заработанные им деньги для преподавателей музыки за границей. Джаз по ночаи и классика по утрам. Тяжёлый труд и тяжкая практика, пока его скрипка не запела так, что ни словом сказать. Музыка, настоящая музыка! Затем в Берлине к нему пристал кашель.
Теперь Рой в свете главной улицы миновал множество людей, но он не замечал их. Видел он только грёзы и воспоминания, и слышал музыку. Некоторые из горожан останавливались и с ухмылкой зырились на отлив европейского плаща на его стройной и смуглой фигуре. Молодой ниггер в штиблетах и с тростью в Хопкинсвилле, Миссури! Что за великая новость, а? Маленький мальчик, или двое, окликнули дерзво окликнули его :«Эй, паря!» Народ только посмеивался, комментировал и поругивался, и всё бы ладно, если бы увядшая женщина в дешёвом плаще и в красной шляпе, белая женщина, покинувшая аптеку в тот миг, когда Рой проходил мимо, довольно не поклонилась ему и не сказала: «Добрый вечер».
Рой опомнился, поклонился и кивнул в ответ, сказал «добрый вечер, мисс Риз», и обрадовался встрече. Забыв, что он не в Европе, Рой примоднл шляпу, снял перчатки и дал руку этой даме, знающей толк в музыке. Они обменялись улыбками, хворый цветной молодой человек и немолодая преподавательница музыки на свету главной улицы. Затем она спросила его, по-прежнему ли он работает над Сарасате.
«Да, — ответил Рой. — Очень занимательно».
«А вы слушали замечательную запись его вещей в исполнении Хейфеца?»
Рой только открыл рот, как заметил, что лицо женщины мигом поблёкло от ужаса. Не успев обернуться, он ощутил удар в челюсть кулака как тонна кирпичей. Словно молния разорвала его мозг, и голова Роя ударилась о край серебристой стеклянной витрины аптеки. Мисс Риз закричала. Тротуар наполнился молодыми красношеими хулиганами в фуфайках нараспашку с занесёнными для боя кулаками. Топла только что ввыввлилась из синема и заметила негра, беседующего с белой женщиной… негра, оскорбляющего белую женщину… напавшего на БЕЛУЮ женщину… НАСИЛУЮЩЕГО БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ. Они заметили, как Рой снял перчатки и поклонился. Когда первый удар настиг его и мисс Риз вскрикнула, толпа уверилась в том, что он было занимался с ней любовью. История его преступления ещё не миновала кромки, история о том, как он пытался изнасиловать белую женщину прямо здесь, на главной улице города напротив ярко освещённой витрины аптеки. Да, он покусился на неё! Йес, сэр!
И вот они сбили Роя с ног. Они топтали его шляпу и трость, и перчатки, и дюжина мужчин тянулась к ним, вожделея личной мести, и каждый хотел поднять Роя чтобы снова свалить его на тротуар. Они боролись за привилегию ударить его.
Лёжа, Рой смотрел на белый сброд. Его рот наполнила кровь, а глаза горели. Он не мог понять, почему мисс Риз на полуслове прервала речь о Сарасате. Теперь он узнал, что никогда уже не вернётся домой к своей матери.
Кто-то дёргал его за ноги. Кто-то плевал ему в лицо. (Похоже его старый коллега, музыкант Чарли Мамфорд.) Один клял его, ниггера, а другой бил ногами в бок. И все мужчины и мальчики на освещённой главной улице завизжали и заверещали как сумасшедшие, и зарычали как псы, и поволокли пинаемого ими тщедушного негра по городу в направлении леса.
Тедушный негр по имени Рой Вильямс почти захлебнулся кровью. А рёв толпы и топот их ног при лунном свете дробились на тысячу нот подобно сонате Бетховена. И когда белый народ оставил его совершенно нагое смуглое тело на ветке дерева на опушке леса, оно провисело там всю ночь подобно скрипке для игры ветра.
Ленгстон Хьюз
перевод с английского Терджимана Кырымлы (продолжение следует, ещё около 60% текста)
* 18 мая 1932 года по указанию президента США Г.К. Гувера в г.Вашингтоне была расстреляна демонстрация ветеранов Первой мировой войны;
** Диксилендом в народе зовут южные штата США;
*** небольшие декоративные деревья, завезённые из Азии и распространённые на Юге США;
**** плоды хурмы (южн. диал.)